Приближается 15-я годовщина геноцида и этнической чистки в отношении ингушского населения Пригородного района и г. Владикавказа Северной Осетии, осуществленных бандами Северной и Южной Осетии под прикрытием российских войск. Войска штурмовали ингушские села, при этом "зачищенные" населенные пункты занимали банды осетинских убийц, грабителей и мародеров, совершавшие невиданные по жестокости преступления. Публикуем статью Ирины Дементьевой об этих событиях, выходившую в нескольких номерах газеты "Известия" в 1994 году.
___________________________
ВОЙНА И МИР ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА
V. ХОЛОДНАЯ ТОЧКА
Защита жизни и права граждан, ингушей ли, осетин, — это смысл и цель существования Временной администрации. Для того и вводилось чрезвычайное положение в зоне конфликта. Законом о ЧП РФ предусмотрена особая форма правления на территории его действия. Исполнение закона, кстати, сделало бы совершенно излишними споры о введении федерального правления в Пригородном районе — оно уже законом о ЧП было предусмотрено, если б не Указ президента от 4 ноября 1991 года. По этому Указу, исправлявшему предыдущий, изданный за день до него, Временная администрация, по существу, лишалась административных прав на территории Северной Осетии, т. е. в зоне конфликта. Там продолжали действовать старые и новые законы СО ССР и принимались бесчисленные новые постановления, резко противоречащие стабилизации обстановки, сохранилась вся исполнительная власть, формально подчиненная Временной администрации, а по сути откровенно игнорирующая ее. В селах Пригородного района оставались осетинская милиция, ОМОН, республиканская гвардия.
Временная администрация в сложившихся условиях для защиты жизни тех же ингушей вынуждена отдать приказ подчиненным ей войскам не пропускать их на территорию Пригородного района. Создалась нелепая ситуация: российские войска и представители федеральной власти даже в ранге вице-премьера, оказались в роли исполнителей позорного постановления Северо-Осетинского парламента!
Любой осетин, честный ли человек, мародер ли, имеет право, никого не спрашивая, приехать в села Пригородного района. Из сожженных ингушских домов, — а их там более трех тысяч, теперь уже нечего унести. Снимают отопительные батареи, унитазы, увозят кирпич из стен. Ингуш к своему бывшему дому не может подъехать иначе, как записавшись за неделю, где-то там его еще проверят, профильтруют, посадят в автобус, и в сопровождении бэтээра с солдатами он отправится в небезопасное путешествие: бывало, что целыми автобусами брали в заложники, забрасывали камнями, вытаскивали из салона и избивали. Пятерка юных испуганных конвойных против трех десятков матерых боевиков - какая защита?
Само существование в таких условиях Временной администрации становится в большой мере бессмысленным. Первый закон административной системы — чем меньше ожидаемый результат, тем большее число чиновников должно его добиваться. По этой причине количественный состав Временной администрации неуклонно растет: сейчас, кажется, его собираются увеличить еще на 600 человек. Уютный Владикавказ, где устроились большей частью командированные из Москвы, следует считать не горячей, а теплой точкой. Осетинские власти внимательно присматривают за ними и усердных поощряют. Можно бы счесть это выдумкой, кто бы поверил в такую откровенную покупку, если б не свидетельство осетинской же газеты: «За семь с половиной месяцев 1993 года приказами МВД СО ССР поощрены 268 военнослужащих войсковой и оперативно-следственной групп, что составило 6520 тысяч рублей».
О следственной группе - разговор особый. Сотни убитых, пропавшие без вести (их в Ингушетии только официально зарегистрировано все еще более 300 человек), не захороненные трупы родственников, кое-как присыпанные где-то землей, подростки с одичалыми глазами, умирающие на чужих матрацах отцы бывших семей - сам дым очагов Назрани со стойким привкусом беды и преступления. А много ли мы знаем приговоров? Но речь сейчас не о том. Жизнь продолжается, требует устройства и порядка. Республика создана, может, и «на бумаге», но граждане-то в ней живые и ставят перед Временной администрацией обыкновенные житейские вопросы, которые она не решает. Почему?
Второй год Ингушетия по существу живет в блокаде. Железнодорожные грузы с гуманитарной помощью, с остро необходимыми вещами доходят до станции Беслан (Северная Осетия), обеспечить их прохождение дальше на Ингушетию (всего-то шесть километров до следующей ингушской станции Долаково) ни Временная администрация, ни приданные ей войска не могут. Из-за одного этого шестикилометрового перегона по территории Северной Осетии грузы приходится завозить кружным путем через Астрахань. Много ли нужно солдат, чтобы от станции Беслан сопроводить грузы до Ингушетии? Во имя чего тогда находится здесь такой огромный и дорогостоящий армейский контингент?
Государство выделило миллиарды на обустройство беженцев. Их не отдают пострадавшим ингушам и даже объясняют почему. Во-первых, деньги не осваиваются, во-вторых, деньги-то предназначены не ингушским изгнанникам, а для «комплексного решения проблемы беженцев» (так указано в известных Кисловодских соглашениях). И надо сказать — отвечают им правильно. Ингуши средства освоить не могут, так как их к своим разрушенным домам не пускают, а уж о стройматериалах, и механизмах речи нет.
Все это можно объяснить только тем, что глава Временной администрации, каковы бы ни были его личные качества, ограничен в своих действиях и мало что может. Должно быть, но этой причине главы надолго не задерживаются. За год они менялись семь раз. И едва ли не все, как когда-то генерал Филатов, следовали «тексту», составленному для них Галазовым.
Уж сколько надежд возлагали на Шахрая, и он сделал поначалу все, чтобы ничем не походить на своего предшественника Г. Хижу. Во Владикавказе поселился на территории общевойскового военного училища, облачился в форму российского офицера-десантника, ел из солдатского котла. В Назрани, где не было гостиницы, поставили на запасном пути списанный пассажирский состав для командированных, где одно из жестких купе занимал С.Шахрай.
В отличие от Хижи, не пересекавшего, как известно, границу Ингушетии, Шахрай уже через три дня после своего приезда, 17 ноября, выступил в Назрани на площади. Никому не обещал скорого благополучия, но возвращение ингушей, в места их прежнего компактного проживания в Пригородном районе от имени Временной администрации гарантировал. Однако это трудно сделать, предупредил он, пока не будут разоружены незаконные формирования на территории Северной Осетии.
А уже через две недели на брифинге во Владикавказе выступил с не меньшей убежденностью: «Это существующие по решению правительства Северной Осетии, поддержанному и Временной администрацией, формирования. Идет тщательный учет оружия, боевой техники и личного состава этих подразделений».
«Я не противоречив, а диалектичен», - сказал Шахрай журналистам. Да, диалектику учил он не по Гегелю. Все еще находясь во Владикавказе, он и на ингушских беженцев взглянул иначе: «Проблему беженцев будет решать комплексно, ведь под эту категорию подпали и ингуши, и осетины, и русские, покидающие Ингушетию и Чечню». Как будто во время пятидневной войны с кровью выдавили из Пригородного района не ингушей, а граждан Грузии или Узбекистана. Что до казаков, вернее, русских (русские на Северном Кавказе, как и в других республиках - особая проблема), то их изображают нескончаемым потоком беженцев в Северную Осетию, хотя, по данным миграционной службы самой Северной Осетии, русских прибыло в республику 473 человека, сколько убыло - не сообщается. Для остатков строится потемкинская деревня под Владикавказом.
Вторым после «комплексного решения» изобретением С. Шахрая, была запись в трудовых книжках депортированных ингушей: «уволен по соглашению сторон».
Издевательский смысл записи очевиден, хотя, возможно, автор счел это компромиссом.
Воздух, что ли, во Владикавказе такой, что обладает убедительной силой воздействия на российских наместников? Среди пяти следующих команд уже не нашлось охотников по примеру Шахрая питаться из солдатского котла или спать на жесткой полке в Назрани. К весне из ингушской столицы убрались дольше других задержавшиеся следователи из объединенной группы Прокуратуры РФ, МБ и МВД. А к лету отпала нужда м в самой гостинице на колесах, поезд в буквальном смысле ушел. А с ним и последние надежды депортированных на заботу о них Временной администрации.
Уже находясь в Москве, Шахрай в интервью «Известиям» (10 января) выскажет далеко идущую мысль: «Наше государство ослаблено, а в слабом государстве не может быть и примата формального права». Ну, тогда конечно...
Во Владикавказе, (не в Назрани!) Шахрай доверительно сообщил слушателям, что сам он родом терский казак из ближних мест. В ходе предвыборной кампании он съездил в казачьи края за голосами, и пообещал, что юг России станет особым приграничным районом страны, и казакам (как в прошлом веке, - И.Д.) там найдется дело. В ответ он получил чин полковника и казачью экипировку, Что ж, камуфляжную форму десантника он уже носил, теперь самое время надеть маскарадную казачью. Остается только надеяться, что у Сергея Михайловича хватит такта не навесить себе пару Георгиевских крестов за урегулирование осетино-ингушского конфликта.
Но как все-таки случилось, что «победители» забрали себе столько власти, создавая тем самым проблему, вышедшую даже за рамки осетино-ингушского конфликта? Они отказываются признавать российские законы на территории своей республики, отказываются от переговоров, как метода решения политических конфликтов. Беспрецедентная зависимость Владикавказа от Федерации позволяла употребить власть, не употребляя силы, разъяснив осетинскому руководству губительные последствия для республики и ее руководителей беззаконного своеволия. Можно было напрямую обратиться к обманутому осетинскому народу.
Тогда, год назад, выбрали другой путь. Возможно, потому, что Дудаев казался из Москвы опасностью еще большей для Российской державы. Кстати, сам Дудаев, не исключено, был готов тогда на глубокие компромиссы, но казачья идеология оказалась сильнее здравого смысла. И Назрань стала точкой холодного расчета на карте российской политики.
Что делать в горячих точках планеты, знают все политологи и конфликтологи. Что делать в холодной точке России, по-настоящему не знает никто. Попытки выдать за этнополитические исследования грубое потакание региональным властолюбцам или столичным великодержавным дилетантам способны привести к вспышке сверхстарой вражды. Есть три точки зрения людей, крайне заинтересованных в будущем зоны конфликта.
Одна принадлежит президенту Ингушской республики Руслану Аушеву. Нужно, считает он, в полном объеме ввести чрезвычайное положение на территории Пригородного района, где проживали совместно осетины и ингуши. Нужно упразднить ЧП во всей остальной Северной Осетии, включая Владикавказ, а также на территории Ингушетии. В зоне конфликта вся власть должна принадлежать Временной администрации. Все воинские формирования, контролируемые властями Осетии и Ингушетии, должны быть выведены за пределы территории конфликта и в дальнейшем разоружены и распущены. Незаконное хранение любого оружия должно наказываться в рамках 3акона о ЧП в РФ. Применение оружия нужно пресекать силой. Вся правоохранительная система рекрутируется из граждан, не проживающих на Северном Кавказе. Экономическая помощь и финансовые средства, поступающие для восстановления территории, направляются только Временной администрации, ею распределяются и под ее контролем осваиваются. Пусть у коменданта, назначенного в каждый населенный пункт, будут выборные помощники от двух общин. Во всем остальном людям нужно жить по-людски. Пусть восстанавливают дома, пусть засеют поля и уберут урожай; пройдет время, они притрутся друг к другу и, дай Бог, не поддадутся новым обманам.
Другая точка зрения принадлежит осетинскому руководству и общеизвестна: нет совместному проживанию осетин и ингушей. Эта идея навязывается осетинскому народу и, по крайней мере, публично большинством поддерживается. Если в России разовьется экономическая и политическая свобода, то такое решение проблемы не найдет поддержки ни в Осетии, ни в Ингушетии, ни для какого-то другого российского региона.
Но тогда, возможно, придется согласиться с третьей точкой зрения, изложенной в президентском Указе: поэтапное возвращение для начала в четыре населенных пункта зоны ЧП ингушских беженцев. На время существования ЧП юридический статус территории не изменяется.
Возможно, существуют еще какие-то способы развязывания тугого узла. Обязательны лишь честные намерения и благожелательное отношение к интересам друг друга. Добиваясь справедливости для ингушей, нельзя, конечно, забывать и о том, что в Пригородном районе выросли уже поколения осетин, для которых он тоже - единственная родина.
А пока президентский Указ не удовлетворяет в полной мере ни одну из сторон. Почему, спрашивает Исса Костоев, ингуши могут вернуться в четыре села, а не в три или семь? Значит, в одних селах будет одно чрезвычайное положение, в других - другое.
И Галазов недавно успокаивал жителей Северной Осетии: «Пожалуйста, не бойтесь! Указ президента РФ — это не первый Указ... Мы найдем, что противопоставить любой силе».
И — нашел!
Появившаяся на днях из недр Госкомнаца бумага, уже подписанная премьер-министром, предлагает ведомствам Осетии и Ингушетии подготовить рекомендации об отмене 3-й и 6-й статей Закона «О реабилитации репрессированных народов», во-вторых поручает охрану возвращающихся в четыре села Пригородного района беженцев-ингушей российскому МВД совместно с правоохранительными органами Пригородного района. Надо так понимать, что ингушей опять поручают охранять тем, кто их убивал. Названная бумага – это Перечень поручений премьер-министра Российской Федерации Черномырдина в развитие нальчикских договоренностей. Как, однако просто обходятся в государстве нашем с жизнью и судьбой сотен тысяч людей, да что там! — судьбой собственного народа, с его историческим выбором. Какими простыми, порой простейшими мотивами объясняется политический шаг, который следовало бы обсуждать прежде, чем делать.
Нет никаких сомнений, что у России есть право защитить себя от распада. Но мы всегда идем непроторенными тропами... рядом с автострадой. Разве мы первые и единственные в мире, да и в собственной истории? Разве не было в пределах Российской империи и Бухарского эмирата, и Хивинского ханства, и царства Польского, и Великого княжества Финляндского со своими эмирами, ханами, сеймами, парламентами, даже с собственной валютой?
Мы, кажется, боимся, не показав силу, прослыть бессильными. Между тем Россия заслужила как раз настороженное внимание непродуманностью национальной политики. Мы готовы то жизнь положить за родной Тирасполь, то учинить Чечне блокаду, то поднять казаков и омоновцев против «лиц кавказской национальности», то угождать национальным лидерам, то на целые народы обрушить свой державный гнев. В одинаковых ситуациях мы поступаем по-разному, вынуждая подозревать себя в лукавстве. И никому невдомек, что мы, великая держава, просто стоим и чешем в затылке. Сколько уже приходилось видеть концепций национальной политики, подготовленных непрофессионалами. Национальная политика не может быть предметом дилетантских экспериментов. Год назад на территории России совершили геноцид над одним из российских народов. Мы должны что-то делать. В ином случае югославский вариант нам не грозит. Нам грозит нечто неизмеримо худшее.
Нет, пока Россия ослаблена, право должно быть особенно сильным. Иначе власть перейдет к гибким юристам или сыновьям юристов.
***
Нас же приучают понемногу, шажок за шажком, глоток за глотком. Дают попробовать. Горько? Но куда денешься, говорят. Всем несладко.
Когда в Тбилиси солдаты изрубили лопатками девятнадцать человек, стон стоял по всей стране. На съезде нардепов СССР допрашивали Крючкова и Лигачева, Язова и Шеварднадзе. Комиссии одна за другой отправлялись в Тбилиси, ленинградскую газету с докладом Собчака передавали из рук в руки. Потом были Баку и Вильнюс, потом расстрелянные ингушские дома в Пригородном районе, сотни погибших. И где писатели и композиторы, кинематографисты и депутаты? Где Анатолий Собчак? Генерал Аушев с горечью говорит, что случись такое в Прибалтике, весь мир ходил бы ходуном. А Кавказ для этого мира - Восток, а на Востоке людей считают на миллионы.
Наконец-то тбилисский синдром преодолен. И теперь в военной доктрине Российской Федерации предусмотрено привлечение воинских формирований для содействия войскам МВД. Теперь армия стала нескрываемым элементом политики. А генералы — весомыми политическими деятелями. Насколько хватит у них терпения таскать головешки из огня, чтобы зажечь чью-то сигарету, и не захочется ли им самим затеять перестройку? Кого тогда звать на помощь? Впрочем, армия вне политики — это пережиток демократических иллюзий эпохи Сахарова.
Армия не раз использовалась политиками друг против друга и все чаще предпринимала самостоятельные действия либо с ведома политического руководства, либо движимая собственными симпатиями, а скорее — антипатиями. Приднестровье, Абхазия, Ингушетия. Кто знает, что здесь было санкционировано междоусобными ветвями власти, а что внутренним убеждением какого-нибудь генерала.
Погромы «лиц кавказской национальности;», обещанные национал-патриотами, впервые организованно проведены в Ингушетии. Кто погромщикам отпустил заранее грехи, гадать не стану. Знаю только, что ни один волос не упадет с их головы. Нас приучают понемногу, и ко многому уже приучили.
Это мы остро почувствовали в Москве начала октября с ее обманутой толпой и танками на улицах. И еще острее в дни нашего всероссийского выборного мятежа. Оказалось, что мы ничего не знали ни о своей стране, ни о себе, ни о своем народе. Кто-то пугал социальным взрывом, и мы воображали разгромленные ларьки и витрины валютных магазинов. Но российский бессмысленный бунт прошел тихо, по избирательным кабинам. Мы долго свыкались с фашизмом, боясь испугаться его. И не замечали, не хотели замечать и первую этническую чистку, успешно осуществленную год назад на территории России, и первую российскую республику, сделавшую национальную нетерпимость своей официальной политикой, и россиян, спасающихся от русской армии. И через год имели все это в Москве: и русских, спасающихся от русской армии, и этническую чистку столицы.
То, что раньше было стыдно, теперь в лучшем случае вызывает равнодушное пожатие плеч. Но мы народ крайностей. Всякий раз, отрекаясь от старого мира, мы обращаем в прах нажитое. Отказываясь от фарисейской «дружбы народов» Сталина, мы не можем, не должны реабилитировать расизм Гитлера. Решения Нюрнбергского трибунала остаются в силе.
Ирина ДЕМЕНТЬЕВА, газета "Известия", № 14-18, 1994 г.
|
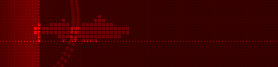

 | RSS
| RSS